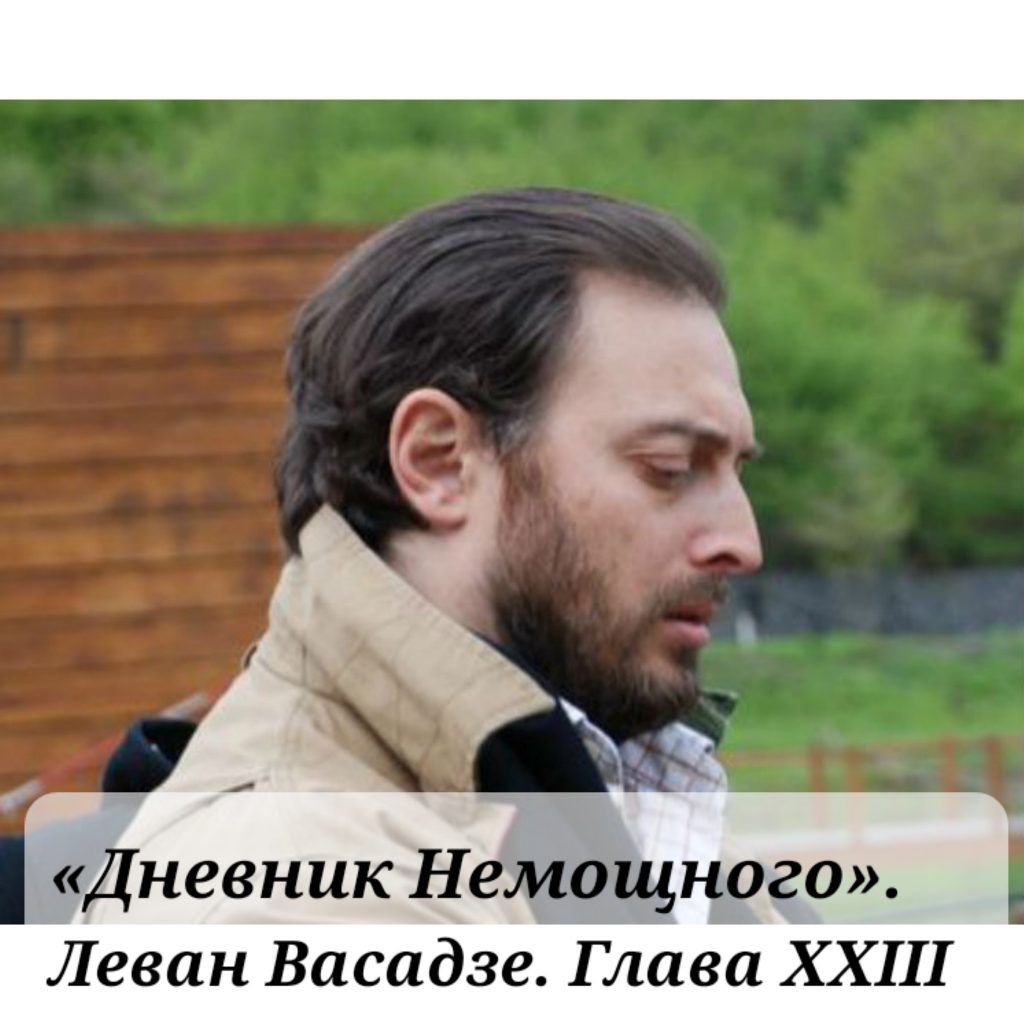
Часть моих трудов в последние годы была опубликована в виде телевизионных обращений, хотя, как я уже не раз говорил, я и в этих случаях подходил к делу с большой ответственностью, чаще всего готовился заранее, писал и зачитывал, чтобы не пропустить ничего важного. Примерно в течение четырех лет мной было опубликовано около семидесяти теле-обращений и около двадцати бесед с друзьями, и за это время эти видео набрали до двадцати миллионов просмотров, а это, исходя из числа нашего населения, говорит о том, что темы наших бесед интересуют не только нас.
Я не раз говорил, что сказанное, или написанное слово не менее, если не более важно, чем любое другое дело, хоть наши скептические критики, постоянно призывавшие нас не говорить, а делать дело, так и не поняли, или не захотели этого понять. Поди, отличи среди них «тролля» от зомби.
А люди, все эти годы, так сказать, занимавшиеся делом, то есть участвовавшие в активной политике, разве они что-нибудь делали кроме разговора? Хотя, увы, многие из них, если не большинство, не ограничивались разговором, а наживались за счет народа. Думаю, та коррупция, которую мы наблюдаем в либеральной республике, не снилась даже самым коррумпированным эшелонам коммунистической власти. Их «Волги» и припрятанное золото просто смешны в сравнении с тем, что принесла своим правителям антипатриотическая республика за 30 лет существования, и этому до сих пор не видно конца. Я говорю это не оттого, что тоскую по коммунистам, хотя многие ощущают ностальгию по тому времени.
Мифы о том, что в либеральной республике нет коррупции, наверное, предназначены для идиотов. Коррупция существует в любом государстве, однако то, что происходит у нас, выходит за любые рамки. Понятно, что вашингтонская индустрия многомиллионного лоббизма, как и легендарная брюссельская бюрократия – не что иное, как легализованная форма коррупции, но мы, кажется, и тут всех обогнали, как и в советское время были первыми по коррупции среди союзных республик.
Не знаю, какому нашему национальному качеству это приписать, но в последнее время мне часто приходилось слышать от представителей высших эшелонов нашего правительства: «Иностранных долгов всё равно никогда не вернуть, это всем ясно, поэтому мы просто плывем по течению», – иными словами, они отягощают страну еще большими долгами, не считая, что крадут у нее.
Это напоминает мне массовое воровство советского периода, хотя масштабы тогда были меньшие, чем сейчас. Сейчас над этим работает целая налаженная машина, в которую вовлечены и заимодатели, и получатели, и распределители денег. По сути, то же происходило и в советском союзе: отцы нашей «темной элиты» выносили из «Госплана» бюджет для объекта и клали его себе в карман, считая при этом, что крадут не у страны, а у русских. Теперь крадут у американцев и европейцев. Так и живем.
На мой взгляд, это синдром народа, потерявшего культуру государственности, и хотя, повторяю, коррупция есть везде – в России, к примеру, такая, что будь здоров, или, хотя бы в Китае, где ежегодно всенародно расстреливают около 3 тысяч коррупционеров, – однако ирония в том, что у нас почти никогда никого не наказывают. Как могло случиться, что за всё существование независимой Грузии не был наказан ни один руководитель, нажившийся на покрытии дорог, или подписавший разрешение на строительство корпусов, ни один архитектор, ни один владелец аптеки, ни один судья или полицейский, покрывавший наркодилеров? И как же мы, погрязшие в таком болоте, надеемся, что придет кто-то один, и разом освободит нас от всего этого? И как это возможно, если мы сами не лучше, а ворчим только потому, что нас не подпускают к кормушке?
У скольких из вас есть родственник или близкий друг, который, благодаря вам получив должность или вступив в какое-нибудь дело, столько мошенничал, что вы не знали, куда деть глаза со стыда, и ни намеками, ни разговором напрямую ничего нельзя было исправить? Или лучше спросим так: есть ли в Грузии хоть один человек, не видавший такого или не делавший этого сам? И если я с болью в сердце задаю эти вопросы, за это меня можно называть изменником родины и иностранным агентом? Неужели кто-то всерьез думает, будто этому можно помочь какими-то нескончаемыми иностранными «реформами» и помощью циничных «тренеров»?
Помните, в первой главе, описав поэтические и философские проблемы нашего падения, в связи с поэтическими, я сказал, что не могу смотреть в бездну и писать о ней, а предпочитаю искать неба, которое всё дальше отдаляется от нас? И, хотя я нет-нет, да и бросаю взгляд вниз, как это видно из предыдущих абзацев, всё же долго оставаться в этом положении я не могу. Вернемся к моим опубликованным трудам, в том числе, и обнародованным в качестве видео. Позвольте мне время от времени ссылаться на них, не потому, что мне лень писать этот дневник, а потому, что этот формат имеет другие особенности, и то, что человек может пропустить, слушая телевизионное обращение, непременно запомнит при чтении. Поэтому, в тех редких случаях, когда я буду возвращаться к уже обдуманным вопросам, я, рискуя наскучить, всё же буду ссылаться на свои труды, тем более, что, по всей вероятности, не все читающие этот дневник смотрели все мои видео.
Поэтому, сегодня оставшееся время мы посвятим беседе о «потерянном поколении».
Не каждому народу под силу осуществить культурное возрождение в стране, опустошенной войной, кризисами и нуждой. Нелегко собрать жизненные силы для такого возрождения, и народ, взявшийся за такую ношу, помимо собственных источников сил нередко черпает их и из чужих культур.
В 20-30 годы прошлого века так поступили американцы последующего за т. н. Золотым веком поколения. Поколение Первой мировой войны и последующей за ней уолстритовской «Великой Депрессии» осуществило, я бы сказал, четвертый ренессанс в американской литературе (после колониального и революционного периодов и периода 19-го века), и это стало возможно не только благодаря американским культурным корням, но и с оглядкой на Европу.
Справедливости ради надо сказать, что у этой их европофилии имелось и весьма меркантильное объяснение, столь характерное для американцев. Резкое, если не ошибаюсь, двенадцатикратное падение курса франка по отношению к доллару значительно облегчило американскому бомонду роскошную жизнь в Париже.
“They Do Things Better in Paris” – «В Париже всё делают лучше» – это стало главным лозунгом потока американской эмиграции в промежутке между двумя мировыми войнами и, в определенном смысле, прорыло новый канал «культурного паломничества», в котором купались писатели и поэты, художники и критики, все, кому не лень.
На Монпарнасе, в кафе «Ротонда» гениальный Эрнест Хемингуэй печалился о своём творческом бесплодии и, кто знает, быть может, окидывал незнающим взглядом проходящих мимо, вечно ищущих Какабадзе и Гудиашвили, и грустящего Такаишвили; бездарная и развратная Гертруда Стайн на зло французам-янкифобам разъезжала в двенадцатицилиндровом «Форде» и в манто; Фрэнсис Скотт Фицджеральд развлекался еще раздольнее, чем даже его персонажи; постоянно перемещались между Нью-Йорком и Парижем уже признанные корифеями Шервуд Андерсон, Эзра Паунд и Генри Миллер.
Комплекс неполноценности перед Европой предыдущих поколений оставил клеймо и на этих шумных и интересных, полных жизненной энергией американцах.
В поисках восполнения этого культурного вакуума американский бомонд, сам еще того не зная, упивался тем шербетом, что через пол века, по причине цинизма академических кругов, привел американскую культуру к поколению «детей цветов», а еще через такой же промежуток времени вызвал нынешний либерально-марксистский крах.
Но, пока до всего этого было еще далеко: если позаимствовать аллегорию Маркеса, мир был так нов, что вещи еще не имели имен, и на них просто нужно было указывать пальцем. И вот, в этом эклектическом вареве, вдали от родины, в подражании французскости рождался важнейший для нашей планеты пласт американской культуры.
Существует несколько ошибочных версий того, откуда появилось название «потерянное поколение», на самом же деле дело было так: один парижанин, говоря по-нашему – сотрудник профилактики, разозленный грубым обхождением отвратительной Гертруды Стайн, обозвал эту похабную женщину этим эпитетом, сказав: «Да что вы, в конце концов, от нас хотите? Для вашей страны все вы – потерянное поколение, убирайтесь обратно в свою Америку!» Стайн и это сумела употребить для собственного пиара, сделав это название «ником» для всего поколения.
Лет через пятьдесят я, девятнадцатилетний советский студент, приехав в Нью-Йорк, по обмену, изучать структурную геологию и минералогию, к удивлению своих кураторов, попросил, если возможно, зачислить меня так же на курс изучения «потерянного поколения» на факультете американской литературы.
Мой интерес оказался довольно экзотическим для этого небольшого, очень красивого университета, расположенного недалеко от Лейк-Плэсид и, полагаю, мне очень, очень повезло с профессором, госпожой Патрисией Морс, которой, быть может, сейчас уже нет в живых.
Профессор Морс, как говориться, родилась веком позже подходящей для нее эпохи. Ее очень удивило появление на курсе такого студента, как я – родом из той самой Джорджии, куда, по словам ее любимого Джона Стейнбека, каждый русский после смерти мечтает попасть, как в рай.
Однажды она призналась мне, что ее особенно удивило то, что я, представитель поколения внуков репрессированных дедов, был знаком со всеми произведениями, включенными в этот курс. И так, пока американские студенты знакомились с текстами, мы с профессором Морс совершали путешествие в мир «потерянного поколения», я в шутку цитировал текст евлогии, сочиненной Хемингуэем в честь своего подохшего кота, и мы вместе смеялись над этим, а она делилась со мной своими соображениями о том, отчего Хемингуэй никогда не мог писать о том месте, где находился в данный момент.
Я точно не был ее лучшим студентом. Она однажды сказала мне: «Мистер Васадзе, вы не умеете писать сочинения так, как мы этому учим еще до колледжа, в школе, однако, к моему удивлению, у вас откуда-то есть такое отношение к книге, которое нам уже давно не удается преподать нашим студентам-литературоведам». Когда я сказал ей, что это отношение отнюдь не является моим личным качеством, а, скорее, представляет собой идеализм, присущий нашей грузинской, или, если угодно, восточно-христианской культуре, мне кажется, она не поняла, что я имел в виду.
В литературе «потерянного поколения» меня, наивного романтика, ждало много разочарований. Это был и явно высосанный из пальца и несоразмерно поставленный вряд с другими, по-настоящему большими произведениями «Тропик Рака» Генри Миллера, и, на мой взгляд, низменная и серая «Автобиография Элис Токлас» Гертруды Стайн, и не представляющая собой ничего особенного, по грузинским поэтическим стандартам, но возведенная американцами до небес поэзия Эзры Паунда. Но самым большим шоком для меня, конечно же, было открытие того, в какой мере литературная критика и связи управляли тем, что я по наивности считал результатом собственного индивидуального выбора и вкуса.
Дело ведь не только в том, что, к примеру, никому не известный репортер канадской газеты «Торонто Стар» Эрнест Хемингуэй перед отъездом с женой в Италию знакомится в Бостоне на «светском рауте» с Шервудом Андерсоном, который тут же дает ему совершенно непропорционально хвалебное рекомендационное письмо к «мамаше» американских кругов в Париже, Гертруде Стайн, где пишет: «Дорогая Гертруда, очень прошу тебя от всей души принять в свой круг и оказать всяческую помощь этому замечательному молодому человеку, который, поверь мне, однажды станет гордостью американской литературы». И это – о двадцатипятилетнем человеке, который к тому времени еще ничего не написал, кроме газетных репортажей и ничем не проявил себя, если не считать того факта, что в девятнадцатилетнем возрасте, работая водителем скорой помощи во время Первой мировой войны был ранен в мягкое место при оказании помощи раненному бойцу и, почему-то был признан чуть ли не первым американцем, получившим ранение в этой войне, из-за чего все американские дороги пестрели баннерами с его портретом. Что ж, будем считать это необъяснимым, почти гениальным провидческим даром крупного литератора Шервуда Андерсона, а не искусно продуманной пиар-стратегией в пользу писателя, в таланте которого я, правда, не сомневался ни прежде, ни после того, как узнал об этом случае.
Однако, уже тот факт, что, когда «потерянное поколение» стало набирать непропорциональный удельный вес в американской культуре, появился явный заказ на выискивание гениев среди их ровесников, не покидавших Америку, и именно на этом фоне теми же Шервудом Андерсоном и Эзрой Паундом был «откопан» и превознесен до небес Уильям Фолкнер, – это оказалось крайне удручающим для меня открытием. Ведь я, повторяю, мнил, что волен сам объективно выбирать, что мне нравится, а что нет, и что моим выбором из-за кулис никто не руководит.
Тем большим потрясением было узнать, что к тому времени, когда за Фолкнера взялись и начали его «продвигать», все его романы были уже написаны и частично изданы, но пылились на полке и никого особо не интересовали до присуждения ему Нобелевской премии в 1949 году.
Однако, как бы там ни было, а культура двадцатого столетия немыслима без «потерянного поколения». Чем же оно заслуживает внимание грузинского потерянного поколения двадцать первого столетия? Казалось бы, где их литературная традиция и где – наша, где их исторический момент и где – наш, где их проблемы и где – наши?
Но мне кажется, что это всё же не совсем так. Несомненно, врагу не пожелаешь подражать Хемингуэю в пьянстве и самоубийстве, и, тем более, копировать нрав и образ жизни Гертруды Стайн, однако в этих культурных американцах есть то, что представляется завидным и полезным лично для меня и для нашего поколения: это необузданное стремление передвигаться по планете, видеть свою страну со стороны, а после – вернуться в нее, чтобы служить ее культуре. Этого так не хватает нам, вечно поносящим себя и друг друга, нам – запертым в нашем маленьком мире носителям большой культуры, которую я в одном своем труде назвал культурой не-ищущего логоса, не для того чтобы нас обидеть.
И всё же, порой мне кажется, что наша не-ищущая статичность превращается в болото, особенно для тех, кому лень работать, кто хочет наживаться на ругани в адрес своей родины и измене ее традициям, чванливо подражая иностранцам.
Поэтому, нашему «потерянному поколению» так же не помешает много путешествовать, много читать и работать, объехать весь свет, но с условием, что всё это мы будем делать для Грузии, для ее традиций, для грузинской семьи, для поддержки и преумножения нашего народа.
© Леван Васадзе.
? 13.09.2021
➡️ Перевод: Тамар (Тата) Котрикадзе
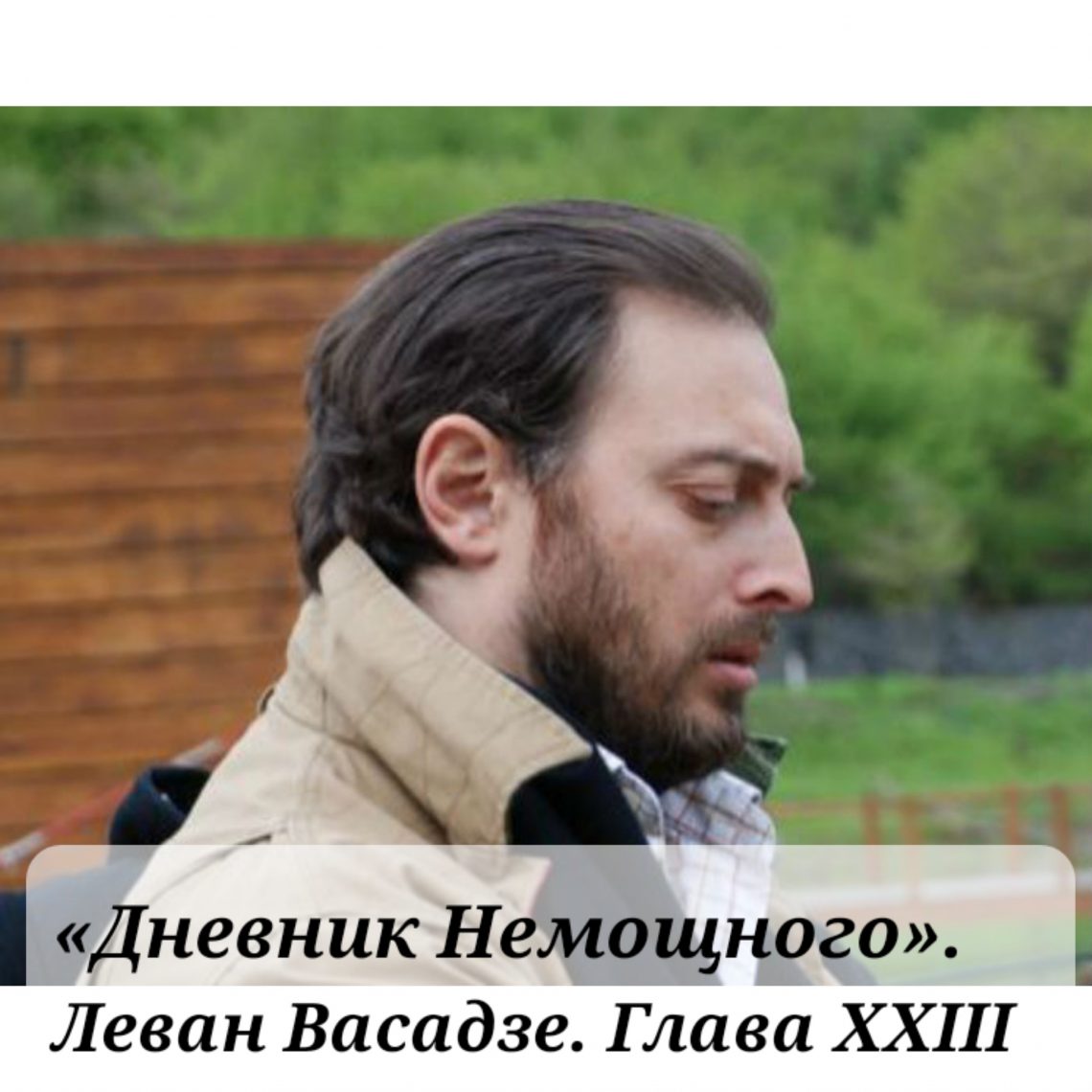





Recent Comments